09
окт
2011
окт
2011
Варлам Шаламов. Несколько моих жизней (1990)
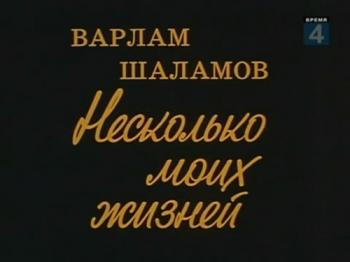 Перевод: Не требуется, cубтитры: отсутствуют
Перевод: Не требуется, cубтитры: отсутствуют Формат: TVRip, AVI, DivX, MP3
Страна: Россия
Режиссер: Александра Свиридова
Жанр: биографии, личности
Продолжительность: 00:48:40
Год выпуска: 1990
Описание: Немолодой голос неторопливо говорит от лица поэта Варлама Шаламова – ровно, устало, невесело:
«Мне семьдесят лет. Около двадцати лет я провел в лагерях и в ссылке. Мне нетрудно вернуться к ощущению детских лет. Колыму же я никогда не забуду. И все же это жизни разные. «Там» – я не всегда писал стихи. Мне приходилось выбирать – жизнь или стихи – и делать выбор (всегда!) в пользу жизни».
От момента рождения писателя до самой его смерти камера пристально разглядывает фотографии, дома и сиротливые пейзажи, словно следуя за рассказом Шаламова и его скорбным маршрутом. Небо – голубое, ясное с облаками – много красивее земли с пожухшей травой и вечной метелью…
Текст читает Пётр Щербаков
Видео: 480x360 (1.33:1), 25.000 fps, DivX Codec 5.x or 6.x ~600 kbps avg, 0.14 bit/pixel
Аудио: 44.100 kHz, MPEG Layer 3, 1 ch, ~64.00 kbps avg
Доп.информация
«Несколько моих жизней»
Так писатель Варлам Шаламов решил однажды назвать свою биографию.
Начал писать, но оборвал повествование на пятой странице. Думаю, ему самому в ту пору не очень было ясно, что его литература – и стихи, и проза - была его биографией.
В ту пору – в конце невероятных восьмидесятых прошлого века – она занимала угол кабинета замдиректора ЦГАЛИ, где пряталась в картонных коробках, построенных штабелями до потолка. О том, что эта проза однажды будет издана в СССР – можно было только мечтать.
С невероятными жесткими и беспощадными «Колымскими рассказами» В.Шаламова я была знакома на слух: их старательно артикулировали хорошие голоса на запрещенных радиостанциях. Более всего – «Немецкая волна».
Представить, что однажды я напишу сценарий и советское государство даст деньги на съемку фильма о Колыме, мог только сумасшедший. Но в 1985-том началась перестройка. Следом за Горбачовым во власть пришли молодые люди, а в Госкино у руля встали мои товарищи. Один из них, чуя перемены, прислал мне мемуары безымянной старухи о герое Революции и гражданской войны Федоре Ильине-Раскольникове. Имя его было запрещено, но ветер перемен позволял надеяться...
Я забралась в архивы. Бумаги Раскольникова был рассыпаны и припрятаны архивистами, получившими некогда приказ об уничтожении бумаг.
В досье близлежащих его соратников – от вождя Владимира Ленина до красавицы жены Ларисы Рейснер - можно было найти его листочки. «Единица хранения» называлась каждая папочка и имела свой собственный номер...
Папку за папкой я перебирала «параллельные» судьбы, выуживая «единицы хранения», имеющие отношение к Раскольникову, и однажды они все рядком улеглись в стопочку передо мной в пустом зале Румянцевской библиотеки в Отделе рукописей. Я любила заглядывать в формуляр выдачи, узнавать, кто и в каком году дотрагивался до меня до этих листочков. С удивлением обнаружила в каждом формуляре детской рукой старательно выведенное слово «Шаламов». Я изучала почерк и видела руку школьника...
Подивилась, что бывают однофамильцы у великих писателей. Последним архивом, куда я пришла в поисках материалов о Раскольникове, был ЦГАЛИ – Центральный Государственный архив литературы и искусства. Там тоже всюду стоял тот же автограф. Закончив работу с архивом Раскольникова, я задала резонный вопрос на тему архива Шаламова. В Ленинке мне сказали, что такого не существует. Зато в ЦГАЛИ объяснили, что он есть, но находится в «спецхране», что в переводе на язык людей означало, что «единицы хранения» засекречены. Я отправилась к директору ЦГАЛИ.
- Что вы хотите увидеть в архиве Шаламова? – заинтересованно спросила Наталья Борисовна Волкова.
- Посмотреть, не писал ли он о Раскольникове...
- Писал. Это была его последняя работа перед смертью...
Я поежилась.
- Я хотела бы посмотреть, какова его версия смерти Раскольникова: он убит или сам умер?
-Минуточку…
Директор ЦГАЛи вышла и вернулась со своим заместителем –Ираидой Сиротинской. Повторила ей мой вопрос.
- Конечно убит, - категорично сказала И.Сиротинская. - Варлам Тихонович в этом не сомневался...
Я к этому времени твердо стояла на том, что Раскольников покончил с собой...
- Я могла бы посмотреть эту рукопись?.. На чем основана его уверенность…
Меня допустили к секретному архиву Шаламова. Это был океан.
Я сдала сценарий о Федоре Раскольникове, где мой герой покончил собой, а не был убит Сталиным. Меня обвинили во всех тяжких грехах, - включая то, что я пытаюсь «отмыть» Сталина, и фильм снимать не стали. И ни одному человеку я не смогла втолковать, что реальность отличалась от мифа. Выстроенный в сознании образованного обывателя алгоритм гласил, что в момент, когда Сталин стал вызывать в СССР и расстреливать дипломатов, Раскольников оказался умнее многих, Сталину не поверил, бежал из Болгарии во Францию, там опубликовал «Открытое письмо», в котором написал «Сталин, вы – убийца», и был за это убит.
Сообщить, что письмо Раскольникова было опубликовано через ДВЕ недели после того, как он выбросился из окна, было некому. Стена легенды была прочна и в 1989 году многим хотелось как можно быстрее и проще пересмотреть и переписать историю и поднять на щит новых героев. А когда власть еще немного ослабила пружину, работавшую на сжатие пресса, - я подала на рассмотрение сценарий о Шаламове.
В Останкино в объединении «Экран» все знали это имя. Прекрасный редактор Наталья Юдина начала передавать его для чтения из рук в руки.
«Чтоб они, суки, знали..» - просто и бесхитростно назывался сценарий, написанный по мотивам биографии и «Колымских рассказов» Варлама Шаламова.
Из фрагментов разрозненных текстов писателя, которого только-только начали печатать толстые журналы, я сложила некий условный предсмертный монолог-исповедь о страшном опыте писателя. Ту самую попытку биографии, которую сам Шаламов забросил. Его размышление о двух формах бытия Поэта – в реальности и творчестве. О двух видах Колымы – реальной – из снега и льда, на которой двадцать лет проживало его тщедушное тело, и мифологической, величественной, как царство Аида, воспетой им в стихах и прозе во всю мощь его неотмирного дара и духа.
- Замените название, - первое, что строго потребовала сделать редактор накануне худсовета, где решалась судьба финансирования проекта.
Я, которая прежде всегда упорствовала, и не меняла ни запятой, на сей раз выбрала согласиться на все, лишь бы фильм состоялся. «Несколько моих жизней» - нашла я другую строку у ВШ.
Второе, что потребовали убрать из сценария – фигуру А.Солженцына. Сначала потому что он в ту пору был «враг народа», а ближе к окончанию работы над фильмом - потому что друг…
У меня ему отводилась небольшая, но достаточно нелицеприятная роль в судьбе Шаламова, и бедные вассалы-редактора боялись промахнуться в желании угодить сюзеррену.
Я убрала все, что просили. Не терять же возможность поведать о Шаламове из-за Солженицына. Не может быть, чтобы злой гений зависти догнал Шаламова еще и после жизни!..
Кто привел на студию режиссера-третьекурсника А.Ерастова, под которого, наконец, выделили деньги, не знаю, но по весне 1990-го мы начали снимать.
Все было непросто на каждом этапе, но главное сбылось: блистательный оператор Леонид Зотенко обеспечил выразительную картинку и на экране возникла заснеженная Колыма, которой до той поры никто толком и не видел.
Ассистенты отбирали кадры кинохроники от середины тридцатых, когда началось освоение Колымы, до середины пятидесятых – «великого сдоха» Сталина и времени освобождения Шаламова из Колымского плена.
Черно-белые кадры передавали скупость, нищету и ужас реального пейзажа Колымы, где Шаламов провел полтора десятка лет, а заснеженные просторы, снятые в цвете с вертолета позволяли воссоздать опоэтизированную Колыму. Ту, которая впечаталась в память поэта. Основная нагрузка ложилась на закадровый комментарий.
По законам тех лет, дикторский текст начитывали дежурные дикторы. И сумму гонорара – 50 рублей - помню по сей день. На запись отводилась одна смена – восемь часов аппаратной.
Через друзей я вышла на прекрасного актера МХАТа Петра Щербакова. Приехала к нему в дом и честно призналась, что денег за эту работу не заплатят. Слово «Шаламов» он не знал.
Согласился просмотреть дикторский текст, который я привезла ему. Дело было вечером, а среди ночи он закончил читать. Позвонил мне и плакал в трубку. Он впервые читал прозу Шаламова… Сказал, что готов на все. Приехал в Останкино в час назначенный и создал шедевр. Одним голосом и ушибленным сердцем, он создал абсолютную иллюзию присутствия Варлама Шаламова.
- Клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам!.. – временами срывался в пафос Щербаков на записи.
- Пафос оставьте Ефремову, - осаждала я его. – Здесь все должно быть глухо и тихо, задушенно-ровно – без пафоса. Вы умрете к концу фильма, понимаете?..
- Показывай, как ты хочешь – я с голоса возьму! – бравируя профессионализмом командовал Петр.
- Клянусь до самой смерти... – ровно, монотонно начитывала я ему стихи.
- Клянусь... до самой смерти... мстить... этим... подлым... сукам... – медленно, задыхаясь приставил слово к слову Щербаков.
Не обошлось без конфликтов. Мне удалось отстранить от работы режиссера-третьекурсника, добиться увеличения сроков монтажа и восстановить против себя всех, включая монтажера и музредактора. Одна И.Сиротинская осталась на моей баррикаде и целиком была согласна с моим видением истории.
Я монтировала одна днями и ночами, не зная, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе». И, наконец, сдала картину. В кадре не было ничего особенного: были реальные камни – города и дома, где Шаламов родился-учился-сидел-писал-жил. Вологда, Москва, Колыма, снова – Москва, поселок Решетниково... А за кадром звучал его – шаламовский - текст, сложенный мною из множества его рассказов. Сшитая из лоскутов биография великого страдальца, прозаика и поэта.
18-го августа 1990 в Останкино собрался худсовет по приему картины.
В просмотровом зале собралось человек 20-25 причастных к производству картины. Объединяла их глухая неприязнь ко мне. Все были старше меня, с большим опытом работы, и в процессе работы не раз давали мне советы. Я не приняла ни одного. Более того – боролась с их вмешательством в работу на любом этапе. Пояснить это трудно, ибо нужно быть в материале, чтобы понимать уровень претензий участников. Я стояла стеной по каждой мелочи.
Буквально накануне сдачи – в последнюю ночь перед худсоветом – я сошлась в последнем бою с прекрасным музыкальным редактором. Она предлагала постоянно свое видение картины и звукового ряда. Я отклоняла ее предложения. Каждый обрывок музыки, который я требовала уложить, она укладывала, преодолевая протест. Иногда срывалась в крик. Например, я велела озвучить фрагмент фильма Бахианой Вилла Лобоса, где соло звучал голос великой Ольги Басистюк, единственной украинской певицы, удостоенной награды Фестиваля Лобоса.
- Так нельзя! – взорвалась музредактор.
- Почему? – полюбопытствовала я.
- Потому что у вас фильм о мужчине, а здесь звучит женский голос! – прокричала она.
- Это Душа, которая не имеет пола, - сказала я и она поперхнулась протестом.
В последнюю смену, когда сводили все звуковые дорожки в одну закадровую кашу, она неожиданно выбрала подчиниться, с вызовом даже требуя: - Ну, давайте-давайте, что вы там хотите? Приказывайте!
Ясно было, что она решила дать мне возможность носом запахать в целину... Я помню, когда уже был уложен голос и наложена музыка, кое-где я велела добавить третьим слоем то посвист ветра, то карканье воронья. Она устала и была вне себя, но молчала...
Ровно через день состоялся рабочий просмотр. Шли на экране картинки...
Красивые – белый снег, снятый с вертолета в Вологде и на Колыме...
И за кадром – звучали страшные слова Шаламова, о том, как уничтожали людей в советских лагерях. Реквиемом по всем убиенным я выбрала «Адажио» Альбинони, дабы ни одно нотой не пересечься с традиционными похоронными маршами памяти усопших генсеков. Под музыку Альбинони открылся белый кадр занесенной снегом похоронной процессии с гробом писателя, и плавно сменился снежной пустыней Колымы...
В просмотровом зале зажегся свет. Все, кто боролся со мной – плакали. Оператор, монтажеры. Многим не хватило «посадочных» мест и они стояли вдоль стен, хлюпая носами. Это была победа.
- Что ж вы сразу не сказали, ЧТО вы хотите сделать? Мы бы вам не мешали... – с неподдельной искренностью воскликнула редактор, не скрывая растерянности.
- Если б я могла всё это СКАЗАТЬ, я бы не делала кино...
- А что ж такое вялое название? – с едва заметной иронией спросил, поднявшись, неизвестный мне рослый мужчина в темном костюме. – «Несколько моих жизней»... Такого невыразительного названия не может быть, когда вы так... всех ненавидите...
- Сценарий назывался «Чтоб они, суки, знали...» - ответила я. - Меня попросили его снять. Если позволите, я готова вернуться к моему варианту... Титры друзья сделают мне немедленно...
Тишина стояла в зале каменная.
- Не надо, - помедлив, словно поразмыслив, сказал Начальник. - Вы не будете вносить поправки? – как само собой разумеющееся, уточнил он на всякий случай. Как-то уже прозвучало, что картину закроют.
- Конечно нет. Пусть лежит такая, как есть, – сказала я. – Вас не будет, меня не будет, а картина - останется.
Он посмотрел на меня с холодным интересом, как смотрят рыбы на птиц сквозь толщу воды. Я никогда не узнала, кто он. А картину, как и следовало ожидать, положили на «полку». В августе 1990-го, когда все запрещенные ранее фильмы снимали с «полки», это была высшая награда.
Как объяснили мне редактора, о лагерях можно было говорить, как о проклятом прошлом, которое кануло, а у меня в фильме – устами Шаламова – звучала рефреном одна мысль – о том, что «любой растрел тридцать седьмого может быть повторен».
В стеклянных дверях Останкино, меня нагнала И. Сиротинская – заместитель директора ЦГАЛИ, хранитель литературного наследия В.Шаламова, которой он завещал все своё, и из-за которой поссорился с Надеждой Яковлевной Мандельштам, убежденной в том, что Сиротинская – «агент» КГБ. Я потребовала поставить её соавтором в титры, дабы так заставить власти заплатить ей, как консультанту.
- Вы куда сейчас? – спросила она.
- Не знаю, - посмотрела я на часы, плохо понимая, который день и час. – У меня сегодня день рождения... – подивилась я цифрам на циферблате.
- Поздравляю, - смерила меня недоверчивым взглядом она, не веря в то, что человек может не знать числа.
А я не заметила как минуло лето, прожив его в полумраке монтажной.
В доме на автоответчике ждал голос любимой подруги Н.
- Где ты шляешься, мы не знаем. Сидим тут с Иркой и выпиваем за тебя. Захочешь к нам присоединиться – приезжай...
Я посмеялась и поехала. Позвонила тем немногим, кто намеревался провести со мной этот вечер и позвала их к подруге.
Был август 1990 года.
Мои товарищи на студии тайком загнали мне копию фильма на кассету.
Я показала фильм узкому кругу друзей. Мой маленький сын смотрел вместе с нами. Страшную сказку о том, как люди ели людей... После просмотра шел, крепче обычного стискиваая мою руку в своей руке.
- Ты только не бойся, - сказала я. – Это всё было, но больше уже не будет. Ты, конечно, маленький, но я хочу, чтоб ты знал, в какой стране ты родился. Знал, но не боялся...
- А я не боюсь, мамочка. Потому что я не буду жить в этой стране...
- А где же ты собираешься жить? – удивленно остановилась я, глядя на своего крошечного семилетнего мальчика.
- Не знаю, - пожал он худым плечиком.
- Но у каждого человека должна быть родина... – неуверенно приставила я слово к слову в большой растерянности.
Мальчик развел руки в разные стороны, демонстрируя пустоту в указанном месте и с сожалением сказал: - Значит, у меня не будет родины...
Александра Свиридова
New York, 2009
Так писатель Варлам Шаламов решил однажды назвать свою биографию.
Начал писать, но оборвал повествование на пятой странице. Думаю, ему самому в ту пору не очень было ясно, что его литература – и стихи, и проза - была его биографией.
В ту пору – в конце невероятных восьмидесятых прошлого века – она занимала угол кабинета замдиректора ЦГАЛИ, где пряталась в картонных коробках, построенных штабелями до потолка. О том, что эта проза однажды будет издана в СССР – можно было только мечтать.
С невероятными жесткими и беспощадными «Колымскими рассказами» В.Шаламова я была знакома на слух: их старательно артикулировали хорошие голоса на запрещенных радиостанциях. Более всего – «Немецкая волна».
Представить, что однажды я напишу сценарий и советское государство даст деньги на съемку фильма о Колыме, мог только сумасшедший. Но в 1985-том началась перестройка. Следом за Горбачовым во власть пришли молодые люди, а в Госкино у руля встали мои товарищи. Один из них, чуя перемены, прислал мне мемуары безымянной старухи о герое Революции и гражданской войны Федоре Ильине-Раскольникове. Имя его было запрещено, но ветер перемен позволял надеяться...
Я забралась в архивы. Бумаги Раскольникова был рассыпаны и припрятаны архивистами, получившими некогда приказ об уничтожении бумаг.
В досье близлежащих его соратников – от вождя Владимира Ленина до красавицы жены Ларисы Рейснер - можно было найти его листочки. «Единица хранения» называлась каждая папочка и имела свой собственный номер...
Папку за папкой я перебирала «параллельные» судьбы, выуживая «единицы хранения», имеющие отношение к Раскольникову, и однажды они все рядком улеглись в стопочку передо мной в пустом зале Румянцевской библиотеки в Отделе рукописей. Я любила заглядывать в формуляр выдачи, узнавать, кто и в каком году дотрагивался до меня до этих листочков. С удивлением обнаружила в каждом формуляре детской рукой старательно выведенное слово «Шаламов». Я изучала почерк и видела руку школьника...
Подивилась, что бывают однофамильцы у великих писателей. Последним архивом, куда я пришла в поисках материалов о Раскольникове, был ЦГАЛИ – Центральный Государственный архив литературы и искусства. Там тоже всюду стоял тот же автограф. Закончив работу с архивом Раскольникова, я задала резонный вопрос на тему архива Шаламова. В Ленинке мне сказали, что такого не существует. Зато в ЦГАЛИ объяснили, что он есть, но находится в «спецхране», что в переводе на язык людей означало, что «единицы хранения» засекречены. Я отправилась к директору ЦГАЛИ.
- Что вы хотите увидеть в архиве Шаламова? – заинтересованно спросила Наталья Борисовна Волкова.
- Посмотреть, не писал ли он о Раскольникове...
- Писал. Это была его последняя работа перед смертью...
Я поежилась.
- Я хотела бы посмотреть, какова его версия смерти Раскольникова: он убит или сам умер?
-Минуточку…
Директор ЦГАЛи вышла и вернулась со своим заместителем –Ираидой Сиротинской. Повторила ей мой вопрос.
- Конечно убит, - категорично сказала И.Сиротинская. - Варлам Тихонович в этом не сомневался...
Я к этому времени твердо стояла на том, что Раскольников покончил с собой...
- Я могла бы посмотреть эту рукопись?.. На чем основана его уверенность…
Меня допустили к секретному архиву Шаламова. Это был океан.
Я сдала сценарий о Федоре Раскольникове, где мой герой покончил собой, а не был убит Сталиным. Меня обвинили во всех тяжких грехах, - включая то, что я пытаюсь «отмыть» Сталина, и фильм снимать не стали. И ни одному человеку я не смогла втолковать, что реальность отличалась от мифа. Выстроенный в сознании образованного обывателя алгоритм гласил, что в момент, когда Сталин стал вызывать в СССР и расстреливать дипломатов, Раскольников оказался умнее многих, Сталину не поверил, бежал из Болгарии во Францию, там опубликовал «Открытое письмо», в котором написал «Сталин, вы – убийца», и был за это убит.
Сообщить, что письмо Раскольникова было опубликовано через ДВЕ недели после того, как он выбросился из окна, было некому. Стена легенды была прочна и в 1989 году многим хотелось как можно быстрее и проще пересмотреть и переписать историю и поднять на щит новых героев. А когда власть еще немного ослабила пружину, работавшую на сжатие пресса, - я подала на рассмотрение сценарий о Шаламове.
В Останкино в объединении «Экран» все знали это имя. Прекрасный редактор Наталья Юдина начала передавать его для чтения из рук в руки.
«Чтоб они, суки, знали..» - просто и бесхитростно назывался сценарий, написанный по мотивам биографии и «Колымских рассказов» Варлама Шаламова.
Из фрагментов разрозненных текстов писателя, которого только-только начали печатать толстые журналы, я сложила некий условный предсмертный монолог-исповедь о страшном опыте писателя. Ту самую попытку биографии, которую сам Шаламов забросил. Его размышление о двух формах бытия Поэта – в реальности и творчестве. О двух видах Колымы – реальной – из снега и льда, на которой двадцать лет проживало его тщедушное тело, и мифологической, величественной, как царство Аида, воспетой им в стихах и прозе во всю мощь его неотмирного дара и духа.
- Замените название, - первое, что строго потребовала сделать редактор накануне худсовета, где решалась судьба финансирования проекта.
Я, которая прежде всегда упорствовала, и не меняла ни запятой, на сей раз выбрала согласиться на все, лишь бы фильм состоялся. «Несколько моих жизней» - нашла я другую строку у ВШ.
Второе, что потребовали убрать из сценария – фигуру А.Солженцына. Сначала потому что он в ту пору был «враг народа», а ближе к окончанию работы над фильмом - потому что друг…
У меня ему отводилась небольшая, но достаточно нелицеприятная роль в судьбе Шаламова, и бедные вассалы-редактора боялись промахнуться в желании угодить сюзеррену.
Я убрала все, что просили. Не терять же возможность поведать о Шаламове из-за Солженицына. Не может быть, чтобы злой гений зависти догнал Шаламова еще и после жизни!..
Кто привел на студию режиссера-третьекурсника А.Ерастова, под которого, наконец, выделили деньги, не знаю, но по весне 1990-го мы начали снимать.
Все было непросто на каждом этапе, но главное сбылось: блистательный оператор Леонид Зотенко обеспечил выразительную картинку и на экране возникла заснеженная Колыма, которой до той поры никто толком и не видел.
Ассистенты отбирали кадры кинохроники от середины тридцатых, когда началось освоение Колымы, до середины пятидесятых – «великого сдоха» Сталина и времени освобождения Шаламова из Колымского плена.
Черно-белые кадры передавали скупость, нищету и ужас реального пейзажа Колымы, где Шаламов провел полтора десятка лет, а заснеженные просторы, снятые в цвете с вертолета позволяли воссоздать опоэтизированную Колыму. Ту, которая впечаталась в память поэта. Основная нагрузка ложилась на закадровый комментарий.
По законам тех лет, дикторский текст начитывали дежурные дикторы. И сумму гонорара – 50 рублей - помню по сей день. На запись отводилась одна смена – восемь часов аппаратной.
Через друзей я вышла на прекрасного актера МХАТа Петра Щербакова. Приехала к нему в дом и честно призналась, что денег за эту работу не заплатят. Слово «Шаламов» он не знал.
Согласился просмотреть дикторский текст, который я привезла ему. Дело было вечером, а среди ночи он закончил читать. Позвонил мне и плакал в трубку. Он впервые читал прозу Шаламова… Сказал, что готов на все. Приехал в Останкино в час назначенный и создал шедевр. Одним голосом и ушибленным сердцем, он создал абсолютную иллюзию присутствия Варлама Шаламова.
- Клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам!.. – временами срывался в пафос Щербаков на записи.
- Пафос оставьте Ефремову, - осаждала я его. – Здесь все должно быть глухо и тихо, задушенно-ровно – без пафоса. Вы умрете к концу фильма, понимаете?..
- Показывай, как ты хочешь – я с голоса возьму! – бравируя профессионализмом командовал Петр.
- Клянусь до самой смерти... – ровно, монотонно начитывала я ему стихи.
- Клянусь... до самой смерти... мстить... этим... подлым... сукам... – медленно, задыхаясь приставил слово к слову Щербаков.
Не обошлось без конфликтов. Мне удалось отстранить от работы режиссера-третьекурсника, добиться увеличения сроков монтажа и восстановить против себя всех, включая монтажера и музредактора. Одна И.Сиротинская осталась на моей баррикаде и целиком была согласна с моим видением истории.
Я монтировала одна днями и ночами, не зная, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе». И, наконец, сдала картину. В кадре не было ничего особенного: были реальные камни – города и дома, где Шаламов родился-учился-сидел-писал-жил. Вологда, Москва, Колыма, снова – Москва, поселок Решетниково... А за кадром звучал его – шаламовский - текст, сложенный мною из множества его рассказов. Сшитая из лоскутов биография великого страдальца, прозаика и поэта.
18-го августа 1990 в Останкино собрался худсовет по приему картины.
В просмотровом зале собралось человек 20-25 причастных к производству картины. Объединяла их глухая неприязнь ко мне. Все были старше меня, с большим опытом работы, и в процессе работы не раз давали мне советы. Я не приняла ни одного. Более того – боролась с их вмешательством в работу на любом этапе. Пояснить это трудно, ибо нужно быть в материале, чтобы понимать уровень претензий участников. Я стояла стеной по каждой мелочи.
Буквально накануне сдачи – в последнюю ночь перед худсоветом – я сошлась в последнем бою с прекрасным музыкальным редактором. Она предлагала постоянно свое видение картины и звукового ряда. Я отклоняла ее предложения. Каждый обрывок музыки, который я требовала уложить, она укладывала, преодолевая протест. Иногда срывалась в крик. Например, я велела озвучить фрагмент фильма Бахианой Вилла Лобоса, где соло звучал голос великой Ольги Басистюк, единственной украинской певицы, удостоенной награды Фестиваля Лобоса.
- Так нельзя! – взорвалась музредактор.
- Почему? – полюбопытствовала я.
- Потому что у вас фильм о мужчине, а здесь звучит женский голос! – прокричала она.
- Это Душа, которая не имеет пола, - сказала я и она поперхнулась протестом.
В последнюю смену, когда сводили все звуковые дорожки в одну закадровую кашу, она неожиданно выбрала подчиниться, с вызовом даже требуя: - Ну, давайте-давайте, что вы там хотите? Приказывайте!
Ясно было, что она решила дать мне возможность носом запахать в целину... Я помню, когда уже был уложен голос и наложена музыка, кое-где я велела добавить третьим слоем то посвист ветра, то карканье воронья. Она устала и была вне себя, но молчала...
Ровно через день состоялся рабочий просмотр. Шли на экране картинки...
Красивые – белый снег, снятый с вертолета в Вологде и на Колыме...
И за кадром – звучали страшные слова Шаламова, о том, как уничтожали людей в советских лагерях. Реквиемом по всем убиенным я выбрала «Адажио» Альбинони, дабы ни одно нотой не пересечься с традиционными похоронными маршами памяти усопших генсеков. Под музыку Альбинони открылся белый кадр занесенной снегом похоронной процессии с гробом писателя, и плавно сменился снежной пустыней Колымы...
В просмотровом зале зажегся свет. Все, кто боролся со мной – плакали. Оператор, монтажеры. Многим не хватило «посадочных» мест и они стояли вдоль стен, хлюпая носами. Это была победа.
- Что ж вы сразу не сказали, ЧТО вы хотите сделать? Мы бы вам не мешали... – с неподдельной искренностью воскликнула редактор, не скрывая растерянности.
- Если б я могла всё это СКАЗАТЬ, я бы не делала кино...
- А что ж такое вялое название? – с едва заметной иронией спросил, поднявшись, неизвестный мне рослый мужчина в темном костюме. – «Несколько моих жизней»... Такого невыразительного названия не может быть, когда вы так... всех ненавидите...
- Сценарий назывался «Чтоб они, суки, знали...» - ответила я. - Меня попросили его снять. Если позволите, я готова вернуться к моему варианту... Титры друзья сделают мне немедленно...
Тишина стояла в зале каменная.
- Не надо, - помедлив, словно поразмыслив, сказал Начальник. - Вы не будете вносить поправки? – как само собой разумеющееся, уточнил он на всякий случай. Как-то уже прозвучало, что картину закроют.
- Конечно нет. Пусть лежит такая, как есть, – сказала я. – Вас не будет, меня не будет, а картина - останется.
Он посмотрел на меня с холодным интересом, как смотрят рыбы на птиц сквозь толщу воды. Я никогда не узнала, кто он. А картину, как и следовало ожидать, положили на «полку». В августе 1990-го, когда все запрещенные ранее фильмы снимали с «полки», это была высшая награда.
Как объяснили мне редактора, о лагерях можно было говорить, как о проклятом прошлом, которое кануло, а у меня в фильме – устами Шаламова – звучала рефреном одна мысль – о том, что «любой растрел тридцать седьмого может быть повторен».
В стеклянных дверях Останкино, меня нагнала И. Сиротинская – заместитель директора ЦГАЛИ, хранитель литературного наследия В.Шаламова, которой он завещал все своё, и из-за которой поссорился с Надеждой Яковлевной Мандельштам, убежденной в том, что Сиротинская – «агент» КГБ. Я потребовала поставить её соавтором в титры, дабы так заставить власти заплатить ей, как консультанту.
- Вы куда сейчас? – спросила она.
- Не знаю, - посмотрела я на часы, плохо понимая, который день и час. – У меня сегодня день рождения... – подивилась я цифрам на циферблате.
- Поздравляю, - смерила меня недоверчивым взглядом она, не веря в то, что человек может не знать числа.
А я не заметила как минуло лето, прожив его в полумраке монтажной.
В доме на автоответчике ждал голос любимой подруги Н.
- Где ты шляешься, мы не знаем. Сидим тут с Иркой и выпиваем за тебя. Захочешь к нам присоединиться – приезжай...
Я посмеялась и поехала. Позвонила тем немногим, кто намеревался провести со мной этот вечер и позвала их к подруге.
Был август 1990 года.
Мои товарищи на студии тайком загнали мне копию фильма на кассету.
Я показала фильм узкому кругу друзей. Мой маленький сын смотрел вместе с нами. Страшную сказку о том, как люди ели людей... После просмотра шел, крепче обычного стискиваая мою руку в своей руке.
- Ты только не бойся, - сказала я. – Это всё было, но больше уже не будет. Ты, конечно, маленький, но я хочу, чтоб ты знал, в какой стране ты родился. Знал, но не боялся...
- А я не боюсь, мамочка. Потому что я не буду жить в этой стране...
- А где же ты собираешься жить? – удивленно остановилась я, глядя на своего крошечного семилетнего мальчика.
- Не знаю, - пожал он худым плечиком.
- Но у каждого человека должна быть родина... – неуверенно приставила я слово к слову в большой растерянности.
Мальчик развел руки в разные стороны, демонстрируя пустоту в указанном месте и с сожалением сказал: - Значит, у меня не будет родины...
Александра Свиридова
New York, 2009
 Главная
Главная Видео
Видео Музыка
Музыка Программы
Программы Игры
Игры Книги
Книги Зарубежные фильмы
Зарубежные фильмы Классика мирового кино
Классика мирового кино Наше кино
Наше кино Советское кино
Советское кино HD/BD и DVD
HD/BD и DVD Зарубежные сериалы
Зарубежные сериалы Отечественные сериалы
Отечественные сериалы Мультфильмы
Мультфильмы Советские мультфильмы
Советские мультфильмы Аниме
Аниме Документальное кино
Документальное кино Приколы и юмор
Приколы и юмор Обучающие видеоуроки
Обучающие видеоуроки Мобильное видео
Мобильное видео Фильмы в 3D (Blu-Ray/BDRip)
Фильмы в 3D (Blu-Ray/BDRip)